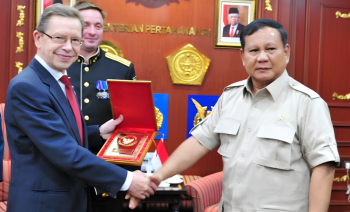Восточная трибуна
Научно-аналитический портал, открывающий доступ к уникальным историческим и религиозно-философским материалам, а также посвященный политическим, экономическим, научным и культурным аспектам жизни государств Азии, Ближнего Востока и Африки
Христиане Ливана и Машрика от процветания к увяданию: оценивая реальность и заглядывая в будущее (часть 2)
9 декабря 2024
-
Источник изображения: Youtube
-
Тема:
-
Страна:
Обзор истории (от независимости до Таифского соглашения)
Период независимости до начала войны 1975 года. Неписаный Национальный пакт, заключённый мусульманами (суннитами) и христианами (маронитами), был основан на компромиссе, предусматривавшем отказ христиан от французской протекции и предоставление им политического первенства в виде должности президента Республики, а также основных руководящих позиций, в том числе в командовании армией. В обмен мусульмане, которые занимали более низкую ступень в социально-общинной иерархии, получали гарантии своего участия в «разделе пирога» правления, государственных должностей и званий. Пакт основывался на данных переписи 1932 года, которая поставила маронитов впереди всех конфессий (как других христиан, так и мусульман), в результате чего позже были установлены доли в управлении с соотношением 6 к 5 в пользу христиан.
Мусульмане активно включились в политическую жизнь независимого Ливана, в отличие от того, как они действовали в период Великого Ливана при мандате. Однако действия и политика президента Камиля Шам‘уна противоречили, по мнению мусульман, Национальному пакту, были враждебны по отношению к президенту Египта Гамалю ‘Абд ан-Насеру и в то же время приводили к поддержке Ливаном западных и региональных военных союзов (которые, стоит отметить, включали и некоторые арабские и региональные мусульманские страны).
Христианами в тот момент двигал целый комплекс страхов, в то время как мусульмане были охвачены духом сплочённости. Громче стал звучать голос шиитов во главе с имамом господином Мусой ас-Садром, с его критикой лишений, угнетения и маргинализации мусульман. Друзы, в свою очередь, протестовали против их оттеснения и ослабления, особенно в эпоху президента Камиля Шам‘уна. Последний, по словам покойного лидера Камаля Джумблата, поначалу договорился с ним вместе управлять страной (!) и не предпринимать никаких шагов, которые могли бы потревожить его союзника из Шуфа, вождя Мухтары. Однако ситуация развивалась совсем не так, как того хотели Шам‘ун и Джумблат. В 1958 году разразилось кровавое восстание, которое стало ударом по основам Пакта и национального единства, вызвав глубокий раскол среди ливанцев. Правда, часть христиан выступала против Шам‘уна, а часть мусульман поддерживала его, и наоборот. Это проявилось, в частности, среди лидеров восстания 1958 года, которые пользовались поддержкой маронитского патриарха Булоса II Ма‘уши, имевшего разногласия с президентом Шам‘уном (позже подобные разногласия и разница в настроениях и взглядах проявились в отношениях патриарха с президентом Фуадом Шихабом).
Покойный президент Гамаль ‘Абд ан-Насер тоже был причиной разногласий среди ливанцев во время президентства Шам‘уна и Шихаба. Христиане и мусульмане были разделены на тех, кто был лоялен ему, и тех, кто выступал против него. Позже в центре конфликта, разногласий и раскола оказались палестинцы. Это особенно проявилось после внезапной смерти египетского президента в сентябре 1970 года, когда они превратились в сильнейшего игрока на ливанской арене на фоне краха идеи арабского национализма после неудачи 1967 года и потери Голан, Синая, Западного берега реки Иордан, Иерусалима и части территории Ливана.
Ливанцы разделились по вопросу усиления позиций палестинцев, как в горизонтальном, так и вертикальном измерении. Христиане все больше и больше пытались цепляться за свои приобретения и сохранить своё положение. Они отказывались вступать в партнёрство в обмен на реформы и безопасность, считая, что мусульмане шантажируют их палестинской винтовкой. Из-за этого события пошли по более негативному пути, болезненные последствия которого хорошо известны. В конечном счёте это привело к Гражданской войне в Ливане (1975–1990), ставшей результатом внешних факторов, внутренних причин и воздействия региональных движущих сил (Синайское соглашение и разведение сил в 1974–1975 годах и подготовка к так называемым Женевским мирным переговорам между арабами и израильтянами).
С 1975 года до Таифа. Ливанская война имела различные измерения и интерпретации. Одни говорят, что речь шла о массовом расселении палестинцев в Ливане и упразднении этой страны в пользу палестинского государства в обмен на потерянные земли, захваченные израильтянами. Другие считают, что это – внутренняя война, в основе которой лежали социальные причины. Третьи утверждают, что произошедшее являлось межконфессиональной войной, вспыхнувшей в результате хронического неприятия мусульманами идеи создания ливанского политического образования «с христианским лицом» в придаток к израильскому политическому образованию «с еврейским лицом». Четвёртые утверждают, что её целью было избавиться от палестинцев, которые начали беспокоить как Запад, так и самих арабов своим растущим присутствием на международной арене, а также на арабской и исламской улице, представляя угрозу арабским режимам, захлебывающимся от нефти, утопающим в деньгах и наводненным богатствами. Так или иначе, эта война завершилась Таифским соглашением 1989 года, которое лишило христиан их политического первенства, предоставленного им Национальным пактом 1943 года, реструктурировало систему власти и перераспределило полномочия, не затрагивая при этом позиции, которые для христиан стали теперь иметь лишь номинальное значение, наподобие статуса короля Великобритании, который царствует, но не правит.
От оборонительной позиции в ходе двухлетней войны 1975–1976 годов христиане перешли к наступлению в период возвышения «Ливанских сил» под руководством Башира Жмайеля. Этот сдвиг сопровождался активным вмешательством израильского, а позже и американского фактора на стороне христиан. Христиане заплатили высокую цену после убийства Башира Жмайеля, ибо дело их было связано с определённым человеком, а не с проектом. Президент Амин Жмайель проводил политику, отличную от той, которой придерживался его брат, хотя при этом он и вступил в переговоры с Израилем, которые привели к соглашению от 17 мая, так и не увидевшему свет.
Следует, скрепя сердце, признать, что христианские лидеры, выдвинувшиеся в период Гражданской войны, особенно из среды партии «Ливанские фаланги», совершали серьезные ошибки. Несмотря на личную смелость самих этих лидеров и их главенствующую роль в защите своего общества и народа, они установили рекорд по внутренним распрям, насилию и безрассудству. Это поколение христианских воинов показало свое незнание принципов политического равновесия в Ливане и его исторических измерений.
Ливанская война привела к катастрофическим последствиям для всех христиан. Достаточно указать на одно из них: за несколько дней христиане утратили своё укреплявшееся до того на протяжении четырёх столетий присутствие в Горном Ливане, когда они потерпели сокрушительное поражение в жестокой и разрушительной войне, разразившейся между генералом ‘Ауном и Самиром Джа‘джа‘ в 1990 году.
Существует и фундаментальная причина упадка христиан. Она заключается в демографическом сдвиге в пользу мусульман, который был усугублен указом о гражданстве, одобренным в 1994 году и увеличившем долю мусульман среди населения Ливана на 9-11%. Этому также способствовала постоянная одержимость жителей соседних стран переселением в Ливан и возобновившаяся обеспокоенность ситуацией с перемещенными лицами. И речь идёт о проектах, существующих как свершившийся факт, в пользу которых серьезно работают государства и международные учреждения.т
Роль христиан после Таифа значительно ослабла сразу на четырёх уровнях:
- уровень осуществления властных полномочий;
- уровень политического представительства;
- уровень политических сил и партий;
- финансово-экономический и социальный уровни (правда, сегодня все ливанцы являются жертвами коллапса и бедственного состояния экономики и ужасающего падения уровня государственных услуг, медицины, здравоохранения, образования и рабочих мест).
Чтобы дать мужественную, честную и объективную оценку, необходимо рассмотреть два фактора, имевшие далеко идущие последствия и результаты и предопределившие итог, к которому пришли христиане в Ливане и на Востоке в целом.
Во-первых, мусульманское сообщество отвергает то, что ему чуждо. Мусульмане, составляющие большинство на Востоке – колыбели древних цивилизаций и реальном главном центре мира – отказались предоставить христианам полагающийся им статус. Они удерживали их в своей социальной и политической системе, подчиненной фетвам и правовым нормам шариата, сводя своё взаимодействие с ними к сосуществованию и терпимости – весьма консервативной, ограниченной и переменчивой. Христиане находились в зависимости от прихотей правителей и султанов, а также от предписаний издававшихся фетв, нередко сталкиваясь с произволом, гонениями и фанатизмом, результатом чего стало исчезновение христианства на Аравийском полуострове и в Северной Африке, упадок христианства в Месопотамии, Турции, Сирии и Палестине. Оставался единственно Ливан – последнее место, небольшой участок земли, где христиане еще могли существовать, задыхаясь при этом от произвола мамлюков и жестокости османов. Масштабы регресса и упадка, которые затронули христиан, не могут не шокировать сторонних наблюдателей и исследователей, особенно если они знают, что накануне арабо-мусульманского завоевания практически весь Ближний Восток был христианским. На самом деле, если бы не христиане, то в прошлые века ислам не обладал бы той административной и организационной структурой, которая способствовала его подъёму и развитию. Кроме того, исламская налоговая система предполагала обложение налогами немусульманского меньшинства. Это, в свою очередь, означало, что христианам и иудеям («людям Писания») – по крайней мере, большей их части – не предписывалось принимать ислам, дабы мусульманские правители не утрачивали важный финансовый ресурс для своей развивающейся империи.
Во-вторых, христиане – они должны иметь смелость признать это – вступив (в большинстве случаев вынужденно) в противостояние с властью ислама, обращались в поисках защиты и в своём стремлении к безопасности и свободе к внешнему миру, а именно к Западу. За последние три столетия они достигли – благодаря миссионерам, их школам и печатным станкам – заметного прогресса в сферах образования, торговли и экономики. Христиане добились превосходства над своими мусульманскими соседями и открылись социальным и политическим системам, отличным от власти, основанной на предписаниях ислама. Они стали ощущать свою силу и оценили своё положение, что побудило их задуматься о своей эмансипации, освобождении и независимости и даже об избавлении от власти ислама в рамках своих собственных государственных образований, либо полностью отделившихся, в чём не было достигнуто успеха, либо путём создания общего отечества для христиан и мусульман, где место религии занял бы универсальный арабизм. Однако злонамеренные европейские и османские вмешательства отравляли христианско-мусульманские отношения, привнося в них ненависть. Некоторые европейские страны были склонны защищать христиан, а Англия вызвалась защищать друзов, между тем как Стамбул играл в игру «разделяй и властвуй».
Эта усиливавшаяся тенденция ориентироваться на Запад, в гораздо большей мере характерная для маронитов по сравнению с другими христианами, всколыхнула исламское сообщество в Османской империи. Христиане стали рассматриваться как иностранные агенты и предатели, как кость в горле мусульман. Последствия этого мы обнаруживаем в событиях, произошедших полтора века тому назад в ходе столкновений друзов и маронитов в 1860 году, а затем в массовых убийствах армян, ассирийцев, сиро-яковитов и халдеев, совершенных чуть более столетия назад арабами и турками в Армении, Ираке и в сирийской области Джазира.
В 1856 году османы издали свой знаменитый указ хатт-и хумаюн, который предусматривал равенство в правах и обязанностях всех подданных Османского государства. Они были вынуждены пойти на этот шаг под давлением Запада, который требовал этого, видя в нем одно из условий для продолжения существования Османской империи и предотвращения ее краха, особенно после войны с Мухаммадом ‘Али, Крымской войны с русскими, восстания на Балканах и освобождения Греции. Таким образом христиане были приравнены в правах к мусульманам, «людям уммы и поданным Султана». Этот указ вызвал яростное недовольство турецких мусульманских шейхов, факихов и улемов. Они начали пропагандистскую кампанию среди османских мусульман по отмене этого юридического акта и недопущению того, чтобы христиане оказались равными с мусульманами. Это было умной и злонамеренной игрой со стороны Высокой Порты.
Особой проблемой для арабов и христиан, ибо большая их часть на Востоке живёт в арабских странах, стало появление государства Израиль. Арабский мир, измученный разочарованиями, неудачами, израильской оккупацией арабских земель, переворотами и отступлениями, за 80 лет не сумел ни достичь единства, ни добиться какого-либо значимого экономического развития (несмотря на огромные доходы от нефти), оказавшись бессильным перед лицом Израиля. При этом со смертью Гамаля ‘Абд ан-Насера стал сходить на нет и арабизм. В результате арабам не оставалось ничего другого, кроме как обратиться к экстремистскому, радикальному исламу. А цену за это пришлось заплатить христианам и тем мусульманам, которые призывали к умеренности, терпимости и открытости миру, другим религиям и нациям.
Радикальный ислам занял место националистических и арабских идеологий, и нам приходится иметь дело с такой исламской повесткой, которая возвращает нас в прошлые века и уже пережитые эпохи. Она отличается следующими характерными чертами:
- отказ от толерантности и прогресса;
- подчинение политики религии;
- власть шариата вместо Конституции;
- возврат к системе неравенства, основы которой, по мнению экстремистов, содержатся в Священном Коране;
- нанесение серьёзного удара по концепции арабизма как цивилизационной основе, не ограничивающей себя одним лишь религиозным измерением, ибо исламский фундаментализм полагает, что немусульманин не может называть себя арабом.
Таким образом, христиане оказались в атмосфере не арабизма, а исламского фанатизма, что подтолкнуло их принимать на некоторых этапах жесткие и гибельные для себя решения по принципу известной арабской поговорки «брат твой – герой поневоле».
Амаль Абу Зейд – советник экс-президента Ливана, депутат парламента Ливана от Свободного патриотического движения (2016–2018), член Научно-издательского совета Научно-аналитического портала "Восточная трибуна"
 Христиане Ливана и Машрика от процветания к увяданию: оценивая реальность и заглядывая в будущее (часть 1)
Христиане Ливана и Машрика от процветания к увяданию: оценивая реальность и заглядывая в будущее (часть 1)