Восточная трибуна
Научно-аналитический портал, открывающий доступ к уникальным историческим и религиозно-философским материалам, а также посвященный политическим, экономическим, научным и культурным аспектам жизни государств Азии, Ближнего Востока и Африки
Единство Магриба – иллюзия или судьба? Взгляд марокканского историка и социолога ʻАбдаллаха Ларуи
9 апреля 2025
-
Источник изображения: diffah.alaraby.co.uk
-
Тема:
-
Страна:
ʻАбдаллах Ларуи (род. в 1933 г.) по праву признан крупнейшим марокканским мыслителем своего времени и одним из наиболее выдающихся в арабском мире [1]. Он внес весомый вклад в историографию последних десятилетий по колониальному периоду шерифского государства [2], исследуя, в частности, тему зарождения понятия «нация» в Марокко и социокультурных корней местного национализма. Известный своими яркими критическими произведениями по истории и социологии, Ларуи одним из первых поставил под сомнение теории, навязанные европейскими экспансионистами, отрицавшие существование марокканской нации. Согласно его мнению, колонизация не просто привела к эксплуатации богатств страны, но, что ещё хуже, уничтожила самобытность её народа и лишила его всякой исторической инициативы [3]. При этом настоящей трагедией было то, что она помешала марокканцу творить свою историю. Обличая тезисы колониальной историографии, выдвинутые маршалом Лиоте [4], Ларуи не раз аргументированно доказывал, что подобные труды во многом фальсифицировали факты, разрабатывая свои идеологизированные парадигмы и имея конечной целью оправдать режим протектората [5].
Получив широкую известность благодаря своей первой книге «Современная арабская идеология» [6], опубликованной в 1967 г., Ларуи спустя три года написал еще одну знаковую для своего времени работу – двухтомную «Историю Магриба» [7]. Это была первая в своем роде попытка альтернативного прочтения и переосмысления прошлого североафриканского региона, что называется, «изнутри» (с позиции марокканского учёного). Реконструируя факты, Ларуи расставляет новые акценты, предлагает иные подходы к изучению причинно-следственных связей между событиями и к периодизации, открывая путь для перспективных исследований.
Примечательно, что позже сам автор, как бы оправдываясь, отметил, что название этой работы не было связано с его верой в будущее единство Магриба [8] и что сегодня он не взялся бы за такой труд. Однако он писал книгу об этом регионе в контексте 1969 г., когда национальные государства на севере Африки еще только формировались. Очевидно, что сложившаяся на тот момент социально-политическая обстановка весьма отличалась от сегодняшней, а духоподъемное состояние магрибского общества, вдохновленного успехами борьбы за независимость, сближало и объединяло население бывших французских колоний [9].
Принимая во внимание масштаб личности ʻАбдаллаха Ларуи, глубину и оригинальность его идей, затрагивающих не только Марокко, но и весь североафриканский и ближневосточный регионы, представляется интересным более подробно остановиться на его размышлениях о единстве Магриба. Эта тема заслуживает особого внимания, учитывая тенденции политической и экономической интеграции в регионе, актуальность вопросов безопасности и пограничных конфликтов, неоднозначность берберского фактора, а также другие проблемные аспекты.
Основные идеи по вопросу единства Магриба [10] он изложил в ходе развернутого интервью, опубликованного в 2022 г. в марокканском историческом журнале «Заман» [11]. В публикации, озаглавленной «Магриб – идея элиты» [12], Ларуи рассуждает о судьбе региона сквозь призму его прошлого, настоящего и будущего.
Мы привычно воспринимаем Магриб как некое единое географическое пространство, объединенное общей древней историей, самобытной культурой, с относительно однородным арабо-берберским населением, определяющим его особый языковой ареал. Однако, первый тезис, который выдвигает исследователь в рамках настоящего дискурса, заключается в том, что, по его мнению, единство Магриба не подтверждается ни историческими примерами, ни географическими границами существовавших ранее государственных образований [13].
С точки зрения истории, поясняет он, все сложившиеся объединения-государства – лишь результат случая. В определенный судьбоносный момент человеческие группы, населяющие различные территории, подчиняются одной политической власти. Исследователи, которые берутся за дело гораздо позже происходящих событий, стараются доказать, что это единство не являлось результатом случайности, а было исторически неизбежным и необходимым, что, на его взгляд, не всегда справедливо. Безусловно, считает ʻАбдаллах Ларуи, многие политические союзы не являются искусственными (всегда имеется географическая, этнографическая, языковая и иная основа), но возникают они как по политической целесообразности, так и по воле случая.
Хотелось бы верить, продолжает Ларуи, что единство Магриба обусловлено географически (например, в силу общих природно-ландшафтных, климатических, этнокультурных и прочих особенностей), но это также отнюдь не очевидно. Конечно, отдельные территории объединяются потому, что у них есть некие общие элементы (происхождение населения, язык, религия, культура), но и этого недостаточно. Прежде всего, нужна политическая воля одного человека или группы людей, основанная на мощной мобилизующей идеологии. Но даже когда это единство достигается, оно всегда хрупко. Доказательством тому служит калейдоскоп государственных образований и их распадов на протяжении тысячелетней истории региона.
Отвечая на вопрос интервьюера о том, можно ли сказать, что Магриб (как территориальное и политическое объединение) зародился в средние века по воле Альмохадов [14], исследователь отмечает, что, безусловно, завоевательные цели этой берберской династии были весьма амбициозными, при этом не стоит забывать и о других попытках имперского объединения земель Магриба, например, при Фатимидах [15], Альморавидах [16] и др. Однако, если посмотреть на карту, мы увидим, что речь не идет об одной и той же территории. При Альмохадах, например, империя мусульманского Запада – Магриба – присоединила к себе Андалусию, при Альморавидах – Сахару (XI–XIII вв.).
Развивая свой тезис, Ларуи называет два важных, на его взгляд, фактора, которые неизменно оказывали влияние на «подвижность» границ Магриба, видоизменяя его облик.
Первый связан с таким закономерным явлением в истории региона, как утверждение легитимности власти за счет присоединения новых земель. Иными словами, когда для достижения указанных целей правители стремились возродить распавшееся территориальное единство. Это характерно, например, для династии Саадитов [17], которые пытались восстановить империю Альмохадов, но – в силу обстоятельств – в несколько других географических границах. Поскольку не могло быть речи о включении в новое государственное образование безвозвратно потерянного на тот момент Аль-Андалуса или попавшего в руки османов восточного Магриба, они обратили взоры на Сахару. Таким образом, резюмирует историк, Саадиты укрепили свою власть, а на карте появилась новая территориальная конфигурация, или обновленная концепция пространства Магриба. При этом границы империи Саадитов на момент наибольшего расширения включали только Марокко и часть Сахары к югу от него [18].
Проводя параллели с событиями современной истории Магриба, марокканский ученый приводит в качестве примера развернувшийся с 1975 г. конфликт в Западной Сахаре, который Хасан II [19] использовал в своих политических целях. По мнению Ларуи, заявление королем Хасаном II «исторических» прав Марокко на Западную Сахару подчинено той же логике укрепления легитимности его власти среди подданных за счет возвращения утраченных имперских владений.
Второй фактор «изменчивости облика региона» связан с тем, что в Магрибе всегда существовали отдельные зоны и даже целые регионы, статус которых не был определен, и которые поэтому могли интегрироваться в то или иное политическое объединение, в зависимости от обстоятельств. Именно эта неопределенность, по его мнению, и давала возможность создавать разнообразные комбинации государственных союзов, как небольших, так и крупных.
Действительно, если задаться вопросом, существовала ли ранее некая империя, которая охватывала бы нынешние территории североафриканских стран, мы получим однозначный ответ: такого государственного образования в рамках региона никогда не было. По крайней мере современной науке об этом ничего не известно. Если взять карту, заключает Ларуи, начертить границы того или иного политического союза прошлого и представить остальное пространство, мы получим совсем другой Магриб, отличный от сегодняшнего.
Таким образом, первый тезис исследователя демонстрирует отсутствие исторического примера регионального объединения, существовавшего в интересующих нас границах, опираясь на опыт которого можно было бы построить концепцию единого Магриба в наши дни.
Следующий тезис, который прослеживается в размышлениях ʻАбдаллаха Ларуи, заключается в том, что в Новейшее время (после распада системы колониализма и образования национальных государств в Северной Африке) вопрос о региональном единстве поднимается на уровень дискурса элит, целью которых является, главным образом, реализация их политических и экономических амбиций. С другой стороны, отмечает он, идея единства государств Северной Африки, их стремление и призывы к союзу не доказывают, что «единый Магриб» на самом деле существует. Было бы заблуждением считать, что у тунисцев, алжирцев и марокканцев одинаковое представление о будущем и своей идентичности. По его мнению, важно разделять степень однородности элит и населения региона, в целом.
Отметим, что во время написания Ларуи своей книги о Магрибе, в конце 60-х гг. XX в., новоиспеченные национальные государства, возникшие на месте французских колоний, в тех границах, которые определил им Париж, еще многое объединяло. В первую очередь – общая пережитая трагедия колониализма и вдохновляющие перспективы совместного строительства нового будущего. Но вместе с тем, отмечает исследователь, после обретения независимости там превалировали идеи создания национальных государств. Вполне закономерно, заключает он, что процесс их строительства уже в 1963 г. [20] ознаменовался пограничным вооруженным конфликтом между Марокко и Алжиром [21]. Этот эпизод, по мнению Ларуи, показателен с точки зрения эфемерности идеи «общемагрибской идентичности». Очевидно, она осталась за скобками, поскольку Бен Белла [22] выступил в этом военном конфликте, как алжирец, а Хасан II, – как марокканец. И за каждым из них стояли его народ и элиты.
Уже в феврале 1964 г. спорную зону по взаимному согласию демилитаризовали, и двусторонние алжиро-марокканские отношения начали улучшаться, пока в 1975 г. не разразился новый кризис [23]. Однако, отмечает Ларуи, именно в 1963 г. мечтам о единстве Северной Африки был нанесен первый серьезный удар.
Следует также упомянуть, что постколониальный период в Магрибе отмечен так называемой «игрой в союзы» – явлением, направленным на изоляцию того или иного «соседа» в борьбе за экономическое и политическое превосходство в регионе. Среди примеров можно назвать инициирование в 1963 г. Алжиром сближения с Тунисом [24] в целях помешать его возможному альянсу с Марокко и усилить изоляцию последнего. Это открыло путь к алжиро-тунисскому сотрудничеству, которое стало первой серьезной попыткой гармонизации экономик и создания единого рынка в Магрибе. Также отметим подписание в 1975 г. оборонительного союза Ливии с Алжиром для противодействия планам Марокко на западносахарском направлении и с последовавшим совместным финансированием борьбы фронта ПОЛИСАРИО за независимость. Безусловно, подобные союзы, по мнению Ларуи, подрывали доверие между государствами и отдаляли мечты о единстве.
Несмотря на то, что с момента обретения независимости североафриканские государства столкнулись с рядом конфликтов, элиты этих стран не переставали вынашивать идею региональной экономической интеграции, которую удалось реализовать лишь в конце 1980-х гг. путём создания Союза арабского Магриба (САМ), что стало поворотным моментом в истории Северной Африки [25].
В течение следующих лет был проведен ряд министерских встреч для обсуждения дальнейшего экономического и политического сотрудничества в этом значимом регионе с населением около 100 млн. человек. В крупных аэропортах пяти стран гражданам САМ даже была выделена отдельная очередь. Тем не менее, вскоре мечта о единстве угасла. Региональные разногласия оказались сильнее стремления элит государств Магриба к союзу, а территориальные споры стали серьезным препятствием на пути интеграции.
Комментируя неоднозначность инициатив по реализации подобных проектов, Ларуи предложил также проследить эволюцию отношения населения к идее единого Магриба. Он отмечал, что представление его жителей о магрибской идентичности также претерпело серьезные трансформации со времен борьбы за независимость и образования национальных государств. Однако, по его мнению, причины изменений кроются не в националистической политике, принятой на вооружение лидерами стран региона в постколониальный период. Историк полагает, что все дело в повышении уровня образования среди населения. Действительно, в Марокко и Алжире, к началу 1960-х гг. неграмотность была практически тотальной, достигая девяноста процентов [26]. К началу 80-х гг. XX в. начальное образование имели лишь 30%. Ларуи убежден, что в одной и той же стране, где уровень грамотности вырос с 30% [27] до 70% (к 2002 г. в Алжире [28] и 2012 г. в Марокко [29]), у населения не может сохраниться одинаковое представление о себе и о других. В первом случае страна кажется стабильной и однородной, и идея единства с другими народами более распространена. Благодаря образованию, заключает он, люди начинают осознавать свои различия, и идея объединения «с другими» уже не кажется им ни практичной, ни благоразумной, тогда как в состоянии невежества людьми правит миф. В качестве аргумента он приводит пример средневековой Европы, жители которой, как известно, воспринимали себя вовсе не европейцами, а христианами, потому что христианское вероучение было их единственным источником культуры и просвещения.
Значительный прогресс, достигнутый в сферах урбанизации и образования, принёс свои плоды. Если вернуться в Магриб второй половины XX в., то в повышении уровня грамотности населения, по мнению ʻАбдаллаха Ларуи, кроется также причина ослабления панарабского идеала, или концепции «арабского единства». Неизбежным последствием стало, в том числе, появление и развитие движений за идентичность. И эта динамика, полагает историк, уже никогда не прекратится.
Принимая во внимание тот факт, что рассматриваемые страны Северной Африки отличаются по своему государственному устройству [30], любопытными в контексте рассматриваемого интервью представляются рассуждения Ларуи о том, может ли монархическая форма правления быть препятствием на пути построения единого Магриба. Отвечая на этот вопрос, исследователь отмечает, что в наши дни не только этот регион развивается с разной скоростью отдельных государств, входящих в его состав, но и каждая страна подчиняется также своей диалектике. Это сказывается на неравномерности и разновекторности их развития. Монархическую же форму правления марокканский исследователь считает – напротив – сближающим и объединяющим фактором. Он убежден в её стабилизирующей роли, прежде всего потому, что она позволяет отделить религию от политики. Его видение будущего Магриба связано с конституционной монархией, которая будет способствовать модернизации региона, защищая от традиционалистских и консервативных сил. Король, продолжает он, будет сам заниматься религиозными вопросами и не допускать, чтобы они использовались кем-то для влияния на политическую игру. В идеальной системе будущего ʻАбдаллаха Ларуи монарх – единственный, кто, помимо проблем вероисповедания, сможет урегулировать также и те противоречия, которые возникнут в результате образования новой региональной структуры.
Впрочем, в этих рассуждениях чувствуется некий скепсис историка и свидетеля непростой эпохи, насыщенной переломными моментами и знаменательными для региона событиями. Для реализации такой возможности, отмечает Ларуи, все государства Магриба должны будут принять разделение политики и религии. Очевидно, что в условиях обострения проблемы политизации ислама, наблюдаемой в Северной Африке на данном этапе, это представляется недостижимым.
В то же время, заключает исследователь, если другие государства не захотят принять верховенство короля и конституционную монархию как форму правления, то каждое из них должно будет представлять неоспоримую и общепризнанную религиозную власть. Данный тезис не просто сложновыполнимый: учитывая актуальность и глубину вопроса, он сам по себе может стать темой для отдельного дискурса.
Наконец, в заключении ʻАбдаллах Ларуи делает вывод о том, что проект магрибского единства воплотится в жизнь только в том случае, если лидеры и народ убедятся в ценности такой задачи, в первую очередь для своего выживания, а затем – для благополучия нынешнего и будущих поколений. Это значит, что судьбу Магриба могут и должны определить сами его жители. Однако, по мнению исследователя, это весьма отдаленная перспектива.
Размышления и выводы Ларуи представляют собой оригинальный ретроспективный взгляд исследователя на историю Магриба. Остановимся на основных тезисах марокканского мыслителя, изложенных выше.
Одной из неожиданных, но вполне справедливых, на наш взгляд, является сентенция Ларуи об отсутствии исторического примера территориального объединения, когда-либо существовавшего в границах того региона, под которым сегодня понимается Магриб. Следовательно, не существует «прототипа» государства или империи, который можно было бы взять за основу для выстраивания концепции его единства в наши дни. По сути, в контексте проблематики, Магриб – это устоявшееся название западной части арабского мира (то есть отдаленных, без точного определения, территорий, которые расположены к западу от Египта), но не конкретный «исторический замысел» или «концепция единого пространства», когда-либо воплощенная в реальность.
Проблема «подвижности» границ, которую ретроспективно затрагивает исследователь, является значимой и в наши дни. Мы можем наблюдать это на примере многих пограничных конфликтов в современном Магрибе, государства которого сформировались в результате колониального раздела между европейскими державами в конце ХIX – начале ХХ вв.
Приведем пример Западной Сахары. Конфликт вокруг неё, как и другие пограничные споры, является «побочным продуктом» колониализма. Но в исторической ретроспективе он связан также с фактором «неопределенности» целого ряда территорий, принадлежность которых не была четко зафиксирована за конкретным государством. Поскольку делимитация границ проводилась европейскими державами без учета особенностей политического и культурного пространства доколониального Магриба, зон расселения отдельных племен и народов, исторических или традиционных сфер влияния [31], пограничные конфликты сегодня – это проблема, у которой практически нет решения.
Исходя из изложенного, напрашивается вывод о том, что всё пространство Магриба по-прежнему «податливо» и его видоизменение продолжится. Именно в этой идее или, скорее, негласной концепции о том, что «всё еще можно перекроить», видится одна из главных причин тех проблем и конфликтов, с которыми сталкиваются сегодня государства региона. Впрочем, такая ситуация характерна для всего постколониального пространства. По нашей оценке, это чревато обострением в ближнесрочной перспективе пограничных конфликтов, а в более отдаленном будущем – частичным пересмотром уже существующих границ.
Важным представляется тезис Ларуи о том, что образование способствует осознанию людьми своих различий. Если развить эту мысль, мы увидим, что повышение общей грамотности и осведомленности населения о своей истории и истоках на глобальном уровне ведет к возникновению таких явлений социокультурной и общественно-политической направленности, как движения за идентичность и самоидентификацию.
Для Магриба характерным является борьба амазигов за самоопределение [32], которая по мере её обострения привела к появлению движений за культурную автономию, а затем и к росту популярности идей берберского регионализма и автономизма. Принимая во внимание относительно высокую степень консолидации магрибских обществ на сегодняшний день [33], отметим, что их самоидентификация, в целом, строится не столько на общности берберских народов, сколько на их незащищенности перед лицом социально-экономических проблем, существующих в отдаленных маргинализированных районах, где, главным образом, проживает бербероязычное население. Однако в Северной Африке существует много дестабилизирующих факторов, которые могут оказать существенное влияние на радикализацию этих движений. К ним можно отнести: отсутствие кардинальных решений многих социально-экономических вызовов; наличие террористических и экстремистских организаций, одним из очагов «расползания» которых по региону по-прежнему является «тлеющий» (при поддержке Запада) конфликт в Ливии; милитаризацию отдельных государств, грозящую нарушением баланса сил и эскалацией вооруженных конфликтов. Всё это, на наш взгляд, может спровоцировать рост выступлений за автономию регионов с преимущественно берберским населением. Таким образом, логично предположить, что изменение облика Магриба в среднесрочной перспективе возможно, скорее, не в сторону попыток новых объединений, а, наоборот, дробления, в том числе национальных государств, на более мелкие образования.
Говоря о неравномерности и разновекторности развития стран региона и стабилизирующей роли монархической власти, которую она могла бы сыграть для их сближения, Ларуи, на наш взгляд, не затронул тему «участия» Запада в этом вопросе. Между тем, многие российские и зарубежные ученые сходятся во мнении, что росту региональной нестабильности и значительным противоречиям между членами Союза арабского Магриба во многом способствует внешняя политика ЕС, ведущие страны которого не заинтересованы в обретении государствами Магриба подлинного экономического и политического суверенитета [34]. Следствием планомерной политики в регионе по принципу «разделяй и властвуй», ставшей уже классикой внешнеполитического западного курса в третьих странах, стали, как мы наблюдаем, различия в политической и экономической ситуации во всех государствах Магриба: недостаточный для интеграции уровень экономических отношений, территориальные претензии, различная внешнеполитическая и внешнеэкономическая ориентация и другие факторы [35].
Вместе с тем хотелось бы отметить и другие объективные причины, которые не позволили Союзу арабского Магриба превратиться в полноценное интеграционное объединение. Как указывалось выше, САМ стал уникальным и амбициозным проектом элит на пути к региональной интеграции. Предполагалось, что эта организация облегчит торговлю и поездки между государствами региона, позволит создать новые рабочие места и обеспечит сильную консолидированную переговорную позицию в экономических отношениях со странами Запада, в первую очередь, Францией. Как отмечалось выше, региональные разногласия и территориальные споры помешали его успешной реализации. Однако, на наш взгляд, – не только они. Полагаем, что не последнюю, а возможно, и главную роль здесь сыграл вопрос экономической целесообразности, которая со временем стала не такой очевидной, как представлялось в начале пути. Во-первых, государства Магриба, главным образом бывшие французские колонии, оказались конкурентами по ведущим товарным позициям своего экспорта – цитрусовым, овощам и вину. Из-за схожести климата и экономического устройства им также было нечем обмениваться между собой: внутрирегиональные потоки составляли всего 2% от внешней торговли [36]. Еще одной ловушкой стало соперничество в сфере тяжелой промышленности и развития крупных логистических хабов (Нуасер и Надор в Марокко, Мензель-Бургиба в Тунисе, город Алжир в Алжире). Кроме того, чтобы стабилизировать общий сельскохозяйственный рынок, государствам Магриба неизбежно пришлось бы со временем перейти к плановой экономике – перспектива, преимущества которой достаточно сомнительны.
Во-вторых, по мере роста националистических настроений в двух ведущих государствах Магриба – Марокко и Алжире – достижение внутреннего успеха очевидно стало приоритетом по сравнению с каким-либо региональным проектом. Полагаем, что неравномерное распределение углеводородных запасов также оказало влияние на выбор отдельных игроков не в пользу североафриканского экономического союза.
Как результат, Алжир, богатый газом, ведет переговоры об установлении дружеских отношений и сотрудничестве с другими странами посредством выгодных энергетических сделок. Тогда как Марокко продолжает безуспешно искать залежи углеводородов, всячески привлекая к этому процессу иностранные нефте- и газодобывающие компании вкупе с инвестициями, создает условия для реализации на своей территории масштабных «зеленых проектов» (ветровые и солнечные парки, заводы по производству электрокаров, проекты по производству зеленого водорода и зеленого аммиака для Европы), и старается «дружить» только с теми, кто поддерживает контроль Рабата над спорной территорией Западной Сахары.
В целом, нельзя не согласиться с ʻАбдаллахом Ларуи в том, что единство Магриба не обусловлено ни историей, ни географией, ни экономикой, что было наглядно продемонстрировано многими примерами. Вместе с тем нам представляется, что главной мобилизующей силой и идеологией в регионе в отдаленной перспективе может стать именно магрибская идентичность, или «культурный код», так или иначе объединяющий тунисцев, алжирцев и марокканцев на уровне генетической памяти, и неизменно создающий в нашем восприятии образ единого Магриба. Предположим, что вслед за осознанием и переоценкой местным населением своих культурно-ценностных ориентиров возникнет новое понимание идентичности, которое, вполне возможно, будет строиться на берберо-мусульманской общности народов региона. Тогда этот процесс может повлечь за собой перекраивание границ нынешних североафриканских государств вплоть до создания нового территориального объединения, вписывающегося в концепцию единого Магриба.
Однако, можно полагать, что до этого отдаленного момента, связанного с объединением берберских регионов, страны Магриба переживут много непростых периодов турбулентности, обусловленных процессами распада и дробления на основе той же идентичности, но в рамках национальных государств. Так будет продолжаться, пока эти новые региональные образования не осознают своей общности и не решат объединиться «для выживания и благополучия нынешнего и будущих поколений». Впрочем, это один из возможных радикальных сценариев развития ситуации. Не вызывает сомнения одно: Магриб – для жителей региона – не иллюзия, а судьба, объединяющая их всех.
Фурсова Евгения Николаевна – кандидат исторических наук
[1] О Ларуи см., например, работы: Kaddouri Abdelmajid. Abdallah Laroui; Le Penseur Marocain Contemporain. Casablanca, 2019. P.151; Souad Mekkaoui. Abdallah Laroui: icône de la pensée et du rationalisme marocains. Maroc diplomatique, 14/07/2016. En ligne. [Электронный ресурс]: URL: http://maroc-diplomatique.net/abdallah-laroui-icone-de-pensee-rationalisme-marocains-2/ (дата обращения: 12.10.2024); Samir Abuzaid. Professor Abdallah Laroui. Philosophers of the Arabs. En ligne. [Электронный ресурс]: URL: http://www.arabphilosophers.com/English/philosophers/contemporary/contemporarynames/Abdallah%20Laroui/English_Article_Laroui/Abdallah_Laroui.htm (дата обращения: 12.10.2024); Sonia Dayan-Herzbrun. Abdallah Laroui, Islam et histoire, compte-rendu. Annales. Histoire, Sciecnes Sociales, vol.57, n 1, 2002. Pp.212-213. En ligne. [Электронный ресурс]: URL: http://www.persee.fr/doc/ahess_0395-2649_2002_num_57_1_280038_t1_ 0212_ 0000_1 (дата обращения: 12.10.2024).
[2] От араб. шариф (мн. ч. ашраф, шурафа’ – «знатный», «благородный») – обозначение потомков пророка Мухаммада. Начиная с XVI в., в Марокко правят шерифские династии (Саадиты, затем Алауиты), т.е. ведущие свое происхождение от пророка Мухаммада. По этой причине Марокко называют «шерифским государством» или (в доколониальный период) – «шерифской империей».
[3] A. Laroui. Esquisses historiques. Casablanca, Beyrouth, 1993. P. 169.
[4] Первый генеральный резидент Франции в Марокко, глава колониальной администрации Французского Марокко с 1912 по 1925 гг.
[5] A. Laroui. Les origines sociales et culturelles du mouvement nationaliste marocain 1830-1912. Casablanca, Beyrouth, 1993. P. 167.
[6] Abdallah Laroui. L'Idéologie arabe contemporaine: Essai critique. Paris, 1967.
[7] A. Laroui. Histoire du Maghreb, essai de synthèse, Paris, 1970.
[8] В ту пору Ларуи читал курс по истории Магриба в американском университете. По желанию администрации курс должен был охватить историю всего региона, а не конкретной страны. Посвятить целый курс только Магрибу, отделяя эту часть Северной Африки от остального Ближнего Востока, по словам Ларуи, на тот момент было выражением своего рода прогрессивных тенденций.
[9] Zamane, hors-série No. VII, 2019. Les grands témoins de notre histoire: Abdallah Laroui. P. 54.
[10] Магриб (араб. ал-Магриб – «место, где заходит солнце; запад») означает западную часть арабского мира в противоположность Машрику (араб. ал-Машрик – «место, где восходит солнце, восток») – его восточной части. Это также арабское название Марокко. Исторически Тунис, Алжир и Марокко за исключением сахарских областей, были известны арабам как Джазират ал-Магриб, т.е. «Остров Запада». Это связано с тем, что регион фактически со всех сторон окружен «морями» – Средиземным морем, Атлантическим океаном и «песчаным морем» Сахары. В новейшее время для обозначения региона Северной Африки – Магриба в арабском языке существует термин ал-Магриб ал-ʻАраби (Арабский Магриб) или ал-Магриб ал-Кабир (Большой или Великий Магриб). В него входят Мавритания, Марокко (с Западной Сахарой), Алжир, Тунис и Ливия. Отметим, что до создания в XX в. современных национальных государств в Северной Африке и появления тенденций к региональным союзам, Магрибом чаще всего называли меньшую территорию между Средиземным морем на севере и Атласскими горами на юге, иногда включая сюда также западную часть Ливии (Триполитанию). В классическом понимании, с точки зрения истории, географии, природных особенностей и других важных аспектов, Магриб включает в себя только Марокко, Алжир и Тунис.
[11] «Заман» (фр. Zamane, от араб. заман – «время») – марокканский ежемесячный журнал, посвященный популяризации национальной истории и издаваемый в двух языковых версиях, содержание которых различается. Это первый и единственный исторический журнал в Марокко. На французском языке выходит с 2010 г., на арабском – с 2013 г.
[12] Zamane, No.18 du 13 juin 2022. [Электронный ресурс]: URL: https://zamane.ma/abdallah-laroui-%E2%80%89le-maghreb-est-lidee-dune-elite%E2%80%89/ (дата обращения: 07.09.2024).
[13] Здесь и далее используются материалы интервью с ʻАбдаллахом Ларуи, опубликованного в журнале «Заман» (№18 от 13 июня 2022 г.), как путем прямого цитирования некоторых пассажей, так и обобщения отдельных мыслей и структурирования тезисов, без выделения прямой речи участников коммуникации.
[14] Альмохады (исп. Almohades, от араб. ал-муваххидун – «единобожники») – религиозное движение, а позже берберская династия, правившая в 1121–1269 гг. в Магрибе и Испании. В результате завоевательных походов (1151-1160) Альмохады подчинили себе весь Магриб (Северо-Западную Африку, включая западную часть Ливии) и Аль-Андалус – мусульманскую Испанию.
[15] Фатимиды – династия арабских халифов (909–1171), возводившая свое происхождение к дочери пророка Мухаммада Фатиме и утвердившаяся на севере Африки, благодаря поддержке берберов племени Кутама. Первоначально династия утвердилась в Ифрикии (в раннем исламе это название обозначало территории современного Туниса, северного Алжира и части Ливии). Позже Фатимиды захватили Тахерт и другие районы Среднего Магриба. В 969 г. они завоевали Египет, превратившийся в центр Фатимидского халифата, со столицей в Каире. К концу X в. власть династии была признана в Хиджазе, Йемене и Сирии.
[16] Альморавиды – берберская династия, правившая в Магрибе и Испании в 1069–1174 гг. Название происходит от араб. ал-мурабитун («живущие в рибате») – сторонников религиозного проповедника ʻАбдаллаха б. Йасина (умер в 1059 г.). В 1056–1090 гг. Альморавиды завоевали земли современных Мавритании, Марокко, Западного Алжира и Аль-Андалуса.
[17] Саадиты – предположительно династия шерифов (Саадиты считали, что ведут свой род от кормилицы пророка Мухаммада Халимы ас-Саʻадийи), правившая с 1509 по 1659 гг. в Дальнем Магрибе, с 1509 по 1554 гг. – Южном Марокко, затем до 1603 г. – всем Марокко, позднее – лишь в Фесе и Марракеше.
[18] В Сахаре Саадиты контролировали земли современных Алжира, Мали и Мавритании. Северная часть нынешней спорной территории Западной Сахары также входила в состав государства Саадидов.
[19] Хасан II – король Марокко (1961-1999) из династии Алауитов, отец нынешнего короля Мухаммада VI.
[20] Всего через год после обретения Алжиром независимости, последней из стран Магриба.
[21] Алжиро-марокканский пограничный конфликт 1963 г. получил название «Песчаной войны». Он стал первым вооруженным столкновением в Магрибе в постколониальную эпоху. После обретения регионом независимости Марокко попыталось захватить часть пустынной территории, которую французские власти «подарили» Алжиру в 1963 г. Марокканский шаг привел к кратковременной вспышке боевых действий между двумя государствами. Через несколько недель стороны договорились о прекращении огня путем переговоров, проведенных при посредничестве Эфиопии и Мали. С тех пор Алжир и Рабат находятся в состоянии постоянного дипломатического противостояния: границы закрываются, а послы отзываются всякий раз, когда нарастает напряженность.
[22] Ахмад бен Белла – первый президент Алжира (1963—1965).
[23] В 1975 г. вспыхнул конфликт вокруг спорной территории Западной Сахары.
[24] Тунис, также претендовавший после обретения независимости на пересмотр в свою пользу существовавшей алжиро-тунисской границы, отказался от каких-либо пограничных притязаний на юге, что очевидно выгодно отличало его в глазах алжирцев от марокканцев, которые отстаивали свои требования с оружием в руках.
[25] 17 февраля 1989 г. король Марокко Хасан II, президент Алжира Шадли бен Джадид, ливийский лидер Муʻаммар Каддафи, глава Мавритании Муʻавийа ульд Сид Ахмад ат-Тайа и президент Туниса Зин ал-ʻАбидин бен ʻАли подписали союзное соглашение по Магрибу. С точки зрения экономической интеграции договор о создании САМ предусматривал формирование зоны свободной торговли, а затем – таможенного союза.
[26] Thomas W. Dichter. One Step Forward, Two Steps Back: Education in Morocco in the Late 1960s and Today. Hespéris-Tamuda LV (2) (2020): 245-262. P. 250; Dr. Malika Sahel. The Algerian Post-Independence Linguistic Policy – a Recovery of National Identity/ European Journal of Language and Literature Studies, May-August 2017, Volume 3 Issue 2. Pp. 38-43. P. 41.
[27] Поскольку речь идет о периоде 60–70-х гг. XX в., оценка Ларуи уровня грамотности населения в 30%, возможно, относится к городскому населению, т.к. статистика уровня общей грамотности населения Марокко и Алжира в этот период не превышает показателей в 10–20%. Уровень в 30% был достигнут лишь в конце 70-х – начале 80-х гг. XX в.
[28] [Электронный ресурс]: URL: https://www.macrotrends.net/global-metrics/countries/DZA/algeria/literacy-rate) обращение от 08.12.2024 (дата обращения: 08.12.2024).
[29] [Электронный ресурс]: URL: https://www.macrotrends.net/global-metrics/countries/MAR/morocco/literacy-rate обращение от 08.12.2024 (дата обращения: 08.12.2024).
[30] Марокко – конституционная монархия, остальные страны Магриба – разные виды республик.
[31] Например, регион Западной Сахары всегда был исторически связан с Марокко. Он сыграл важную роль в становлении династии Альморавидов в середине XI в. и укреплении власти Саадитов в конце XVI в. Одним из свидетельств того, что Западная Сахара традиционно была в орбите влияния Марокко и имела с ним тесную связь, является языковая общность. Большинство населения Западной Сахары – кочевые племена арабов и арабизированных берберов – по-прежнему общаются на одном из марокканских диалектов арабского языка.
[32] Берберы (самоназвание амазиг – «свободный человек») – автохтонное население Северной Африки. Большая часть современных берберов проживает в Марокко, Алжире, Ливии, Тунисе, на севере Мали и Нигерии. Небольшое количество находится также в Мавритании, Буркина-Фасо, Египте и Судане. В настоящее время крупные берберские общины имеются во Франции, Испании, Бельгии, Нидерландах, Германии, Италии, других странах Европы, а также в Канаде. Движения берберов за самоопределение, за культурные и языковые права возникли, как ответная реакция на политику арабизации 60–70-х гг. XX в. в странах Магриба, освободившихся от колониальной зависимости. Благодаря этим движениям, в настоящее время берберский язык является официальным языком в Марокко и Алжире, национальным языком в Мали и Нигере, региональным языком в Ливии.
[33] См., например, статью Фурсовой Е.Н. «Берберский вопрос и проблема самоидентификации коренного населения Северной Африки на примере современного алжирского общества» // Вестник Санкт-Петербургского университета. Востоковедение и африканистика. 2018. Т. 10. Вып. 2. С. 254–268. https://doi.org/10.21638/11701/spbu13.2018.209.
[34] Cм. Секачева А.М. Современное состояние и перспективы развития Союза арабского Магриба. Дата публикации: 30.05.2023. [Электронный ресурс]: URL: http://edrj.ru/article/12-05-23 (дата обращения: 11.12.2024).
[35] Там же.
[36] Le Maghreb en danger. Maniere de voire. Le Monde diplomatique. No. 181/ Fevrier-Mars 2022. P. 21.
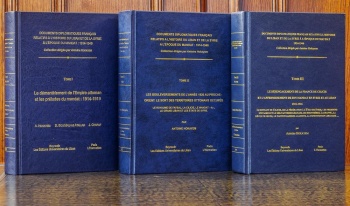 Архивы заговорили… «Восточная трибуна» готовит издание перевода французских дипломатических документов по истории Ливана и Сирии в эпоху мандата
Архивы заговорили… «Восточная трибуна» готовит издание перевода французских дипломатических документов по истории Ливана и Сирии в эпоху мандата
 «Математики короля» – французские миссионеры на службе маньчжурских императоров (XVII–XVIII вв.). Часть I
«Математики короля» – французские миссионеры на службе маньчжурских императоров (XVII–XVIII вв.). Часть I
 Хашим ‘Усман и его труды по истории и вероучению алавитской конфессии
Хашим ‘Усман и его труды по истории и вероучению алавитской конфессии
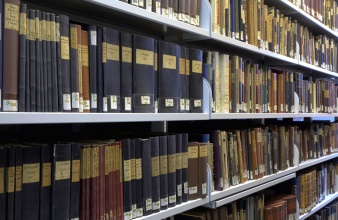 Труды германского исламоведения в программе исследовательской и переводческой работы портала «Восточная трибуна»
Труды германского исламоведения в программе исследовательской и переводческой работы портала «Восточная трибуна»

